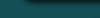Глава 1
Если писать без дураков, по-настоящему, надо, во-первых, мысль какую-то иметь, которую нужно донести не расплескав, во-вторых, сюжет. И чтобы сюжет развивался во времени, и чтобы завязка-развязка как положено. Ну и характеры вырисовывать, как в учебниках велено. Выпуклые. Да, чуть не забыл… еще пейзажи, мол, чуден Днепр при тихой погоде. Ничего этого у меня нет, ни сюжета, ни характеров выпуклых, ни мыслей вселенских. Есть просто воспоминания.
А еще шел дождь, и было отчего-то грустно, так грустно, просто до воя на луну грустно. Но луны не было, а был дождь, и я сидел и стукал по клавишам. Сначала представлял, как я читаю это самой лучшей женщине в мире - моей маме, потом вошел во вкус и стал стукать просто так, из интереса. Думал, получится небольшое эссе-воспоминание. А потом оно все больше и больше размером становится, гляжу, из жанра эссе уже вылазит, а все никак не кончается и не кончается. Видно, обрезать придется, что бы удобочитаемо было.
Сначала мы жили в Сретенске. Мы – это моя младшая сестренка Ленка, я сам, мои родители и бабушка - мать отца.
Домик в Сретенске у нас был старенький, весь перекошенный, со щелястыми полами и сквозящими окнами, замазанными пластилином. Даже не дом, а полдома, так как во второй половине жила какая-то чужая бабушка. Дом был разделен перегородкой из обыкновенных неструганных досок, побеленных известкой. У той чужой бабушки с ее стороны на перегородке висели часы-ходики и круглосуточно нудно тикали.
Когда я показывал эти свои записи разным людям, многие удивлялись, что я помню себя в таком юном возрасте. Кто говорил, что помнит себя только с десяти лет, кто с пяти. Вот не знаю, поверите ли, но я помню, как сестра моя родилась. А разница у нас с ней в полтора года. Родилась она и в доме повесили зыбку. Зыбка – это такой квадрат из четырех палок с натянутой посередине тканью. Подвешивалась зыбка к потолочному крюку. К ней привязывалась веревка и бабушка, сидя на кровати, за эту веревку качала зыбку ногой, если Ленка завяньгает. А я подлазил под зыбку и баловался, упираясь в ткань головой. Бабушка на это ругалась, но меня все равно туда тянуло и я снова лез.
Ранняя память не такая уж большая редкость. Это как гены лягут. У кого рано, у кого поздно. Вот у меня два сына. Старший ничем от других не отличался, как и все дети, звуки "р" и шипящие до пяти лет не выговаривал, помнит из детства тоже не очень много. А младший уже в год нормально разговаривал, в три года читать научился. Правда, толку ему от такого раннего развития не было. Школу он окончил весьма средне, несмотря на то, что мать – учительница. В институт тоже поступил с большим трудом только на платное отделение.
Так что если кто себя совсем маленьким не помнит, не огорчайтесь. Все еще впереди.
А я помню. Летний полдень. Где-то вокруг Моргульской сопки ходят тучи и слегка погромыхивает. Мы с бабушкой откуда-то пришли и сидим во дворе. Может, мы с ней в церковь ходили, может, по гостям. Деревня Удычинская, откуда моя баба Катя родом, уже разорена, народ перебрался кто куда, в основном в Сретенск. Родни вокруг много, вот бабушка и наносила «визиты вежливости» старым подругам. И всегда брала меня с собой. Подруги ее, такие же старые бабушки, доживали жизнь на длинной-предлинной улице Луначарской во вросших в землю по самые окна домишках в среди кружевных салфеток и ситцевых занавесок. Я потом, подрастая, все думал, а почему именно меня она водила с собой, а не Ленку. Потом догадался. Ну что, Ленка, она же девчонка. Выйдет замуж и все. А я – носитель фамилии. Последний в роду. Охоныш. Бабушка даже специально меня научила отвечать на вопрос кто я такой. Я должен был встать, выпятить грудь и сказать: «Гордеев Александр Петрович». Слово «Александр» у меня не получалось и все почему-то смеялись. А бабушка гордо говорила: «Вот, внук. Казак растет».
Мама ушла, не дождавшись нас и закрыла дом на замок. Мы с бабушкой сидим и ждем ее. Двор накалился до состояния сковородки… Сейчас написал слово «двор», а потом подумал – а ведь это я на великорусском языке уже пишу, а не на забайкальском. Отвык. Не было там слова «двор», а говорили «ограда». Не «во дворе» мы с ней сидели, а «в ограде». В ограде была летняя кухня, сколоченная отцом из березовых палок, да не кухня даже, а так, загородка. Ну что можно сколотить из палок? Доски стоили денег, а березняк вон он растет, руби сколько надо. В кухне – печь из камней, обмазанных глиной. Настоящую зимнюю печь в доме летом топить нельзя, жарко будет, а готовить надо, вот и варили на этой времянке. Рядом, за забором из таких же березовых палок огород с картошкой. Ну вот, опять. Написал «забор» вместо «заплот». Слишком долго я жил в Новосибирске. Забывать стал язык.
Сидим мы с бабушкой в ограде. На бабушке серое, мешковатого вида платье из дешевой ткани. Ткань эта, кажется, сатин называется. Она всегда в этом платье ходила. Было еще у нее выходное платье темно-коричневого цвета, в нем она ходила в церковь. Дома бабушка поверх платья надевала «запон». Запон - это длинный фартук. И обязательный платок. Без платка она на людях не показывалась, неприличным считала ходить «неприбранной».
Бабушка сидит на травке у заплота, вытянув одну и подвернув под себя другую ногу. Она часто так сидела. Поза немного странная на взгляд постороннего человека, но, оказывается, весьма удобная. Я сам в такой позе умудряюсь даже на стуле сидеть, а уж если на травке придется, так и сам бог велел. Удобно.
Жара. Где-то далеко слегка погромыхивает гром.
- Баба, а почему гром гремит?
- А это Илья – пророк по небу на колеснице ездит, вот и гремит.
- А куда он ездит?
- К богу в гости ездит.
- Баба, а дождь почему идет?
- А Илья – пророк с колесницы слезет и поссыт, вот дождь и идет.
- Баба, а мы с тобой, когда в церкву ходили, почему поп на сухарик сказал, что это тело божье? Бог он что? Из хлеба сделанный?
- Нет, бог – это дух святой, он бесплотный.
- А почему же тогда нам сухарик давали?
У бабушки на это нет ответа, да меня ответ уже не интересует. Глаза закрываются и поудобней устроив голову на бабушкиных коленях, я засыпаю и вижу во сне огромного Илью – пророка на железной колеснице и маленького бога, сделанного из хлеба. Колесница почему-то с мотором и похожа на грузовик нашего соседа-шофера. А к богу выстроилась очередь бабушек, как в церкви, и каждая подходит и отщипывает себе кусочек.
В ограде исправно нёс службу пёс Пират, добродушное лохматое существо неопределенного желто-коричневого цвета. Пёс был умным и лишний раз зря никогда не тявкал. А особенно Пират вошел в фавор после того, как спас Ленку от пожара. Сам я этого не помню, а пересказываю воспоминания родителей. Дело было зимой. Двухгодовалую Ленку одели по-зимнему и выпустили в ограду гулять. По-зимнему, это значит шуба, шапка, платок крест-накрест, еще куча всякой одёжи. Гуляла она, гуляла, и тут бабушке приспичило гладить. А утюги, если кто помнит, были тогда чугунные на углях. Внутрь закладывали горящие угли из печки, они там тлели и нагревали утюг. Угли постепенно затухали и что бы их раскочегарить, надо было помахать утюгом, что бы приток свежего воздуха раздул их. Бабушка вышла и стала утюгом махать, разогревая его. Да видно, и попал уголек Ленке за шиворот. Шуба стала тлеть, но за слоем разных одёжек Ленка не чувствовала это и продолжала беззаботно топать по ограде. Первым поднял тревогу Пират. Начал лаять и выть, прыгать, ставить ей лапы на плечи. На тревогу выскочили взрослые, Ленку потушили, а Пирата неделю кормили от пуза всякими вкусностями.
А еще помню, как бабушка учила меня считать. Выучила за два дня!!! Сама она была неграмотной, читать не умела и в школу никогда не ходила. Но считала отлично. В уме и складывала и умножала и делила. Как? Сама не знала.
Сначала она заставила меня выучить счет до десяти. Ну, это просто даже для трехлетнего ребенка. А потом говорит: « Прибавляй к каждому числу «надцать» и будет тебе второй десяток. Ну-ка, попробуй». Я начинаю: «Один-надцать, два-надцать, три-надцать… Здорово как». Получается!!!!. Она высыпала коробок спичек, отсчитала двадцать штук, заставила меня пересчитать. За один день я научился счету до двадцати. Потом весь вечер приставал к ней, что бы научиться считать дальше, а она все отнекивалась, мол, завтра. А завтра у взрослых какие-то дела, так и забыли про меня. Я потом целую неделю хвастал перед Ленкой, что умею считать до двадцати.
А тот день, когда я выучился считать «хоть до скольки», я и сейчас помню. Тоже вот так же сидели с бабушкой в ограде, я приставал к ней, что бы научила считать дальше. Она в двух словах мне и объяснила, как устроена десятичная система счисления. Не на пальцах, не на спичках, а просто двумя фразами. Когда до меня дошло, я просто выпучил глаза, как, оказывается, все просто. Хоть до мильена считай. А складывать-вычитать она мне уже потом на камешках и копейках показывала.
А потом я вырос.
Помню себя новобранцем. Команду собрали еще в Кокуе, капитан военкоматовский посчитал по головам и повез нас в Сретенск. Утренним поездом. Потом строем на паром и строем до военкомата. Старый военкомат деревянный. Там еще двор с воротами. И вот подходим строем к воротам, гляжу - бабушка моя. Сидит прямо на дороге, в пыли. Туфель она не признавала, ходила всю жизнь в сапогах. Серый сарафан да платок по самые глаза. Выбежал я из строя, обнял ее. А тут капитан-зануда над душой, мол, быстро в строй. Чмокнул я ее в щечку, славную свою бабушку, да побежал. Ворота потом закрыли, долго нас пересчитывали да манатки проверяли. Отпустили уже после обеда. Ее уже не было у ворот.
Пошли потом толпой стричься наголо да обедать, а там уже и вечерний поезд на Читу. Так и не сбегал к ней. Потом оказалось, что она, не зная точно, когда меня повезут, три дня ходила к военкомату караулить Кокуйскую команду.
Казачка старая, доля ее такая, мужчин на службу провожать.
Провожала она от тех военкоматских ворот сначала мужа на германскую, потом сыновей на отечественную. А потом и меня, последнего своего "охоныша". В последний раз проводила. Через полтора года приехал я на побывку, она меня уже не узнала.
Жила она у старшего своего сына Ивана в зимовьюшке. Столик, кровать, печка. Самовар на столе.
Захожу, в шинели, в форме, она спрашивает: "Ты кто?". "Да я Сашка, внук твой". "Какой Сашка?". Потом, вроде, вспомнила, кто я есть. Чаем давай меня поить. А прощаться стали, она снова спрашивает: " Ты кто? Милиционер? Зачем пришел?"
А через два месяца, в марте семьдесят третьего она умерла, милая моя бабушка Катя.
Подняла одна шестерых. Сын Митька без вести под Ленинградом в марте сорок четвертого пропал. Осталась от него одна строчка в книге павших. Сын Алешка от ран после войны умер. Сыну Ваньке повезло, провоевал войну в хозвзводе да в должности завстоловой. Сын Петька, мой отец, по малости лет с немцем не успел, только немножко с японцем повоевал.
А еще она, баба Катя наша, любила внуков своих и правнуков считать. Как начнет пальцы загибать: «В Усть-Каре столько-то, в Чикичее столько-то, в Удыче столько-то. Вот бы она сейчас порадовалась, узнай она, сколько ее потомков сейчас по всему свету ходит.
А тогда мы все жили вот в такой избушке.