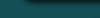Глава 2
Жить в той избушке было тесно, холодно и квартиру в Кокуе родители ждали… ну все знают, как молодая семья ждет жилья, что тут описывать. Каждый день, как отец приезжал на «передаче» с работы, у взрослых начинались разговоры. «Ну, что, был у Чашкина?» «Ну что Чашкин сказал». Кто такой Чашкин, я до сих пор не знаю. Тогда он мне казался таким же богом, про которого рассказывала бабушка, Ильей-Громовержцем, разъезжающим по небу на колеснице. Сейчас я думаю, что это был какой-то заводской завхоз.
И вот в один прекрасный день великий и ужасный Чашкин что-то отцу подписал, и мы на следующий день всей семьей были в Кокуе.
Квартира, нам предназначенная была на Клубной улице. Почему-то она была занята и мы прожили несколько недель в «доме на Набережной». Это какой-то из тех розовых двухэтажных домов, что возле «Авангарда». То ли там угол снимали, то ли еще как жили, четырехлетний человек такими вопросами не задается. Жить эти несколько недель было скучно, на улицу не выпускали. В комнате стоял огромный мягкий диван, на котором можно было попрыгать, но прыгать нам с сестрой на нем тоже не разрешали: «Тетенька заругается». Тетенька – это, наверное, была хозяйка комнаты. Комната была интересная, хотелось все потрогать, пооткрывать разные дверцы, побегать. Мама только успевала нас ловить, садить на место и ругать за непослушание. От этого дома остались крепкие воспоминания скуки и что там ничего нельзя трогать.
Еще помню там эмалированную ванну с горячей водой. В Сретенске мы жили в частном домике и все помывки для четырехлетнего человека сводились к стоянию в цинковом тазике, зажмурив глаза, пока мать поливает из ковшика. А тут мама загрузила нас с сестрой в ослепительно белую огромную ванну, налитую по самый край водой и оставила нас поплескаться. Это был ни с чем несравнимый восторг! Кроме восторга еще была боязнь поскользнуться на белой эмали и упасть. Мокрая эмаль казалась такой скользкой! Наплескавшись вволю, я боялся вылезать из ванны, сидел и ждал, когда мама вынет меня оттуда.
На следующий день родители пошли смотреть «нашу» квартиру и поторопить выселяющихся жильцов. Взяли и меня с собой. Помню обшарпанную комнату, тусклую лампочку без абажура, посреди комнаты табуретка, на табуретке стоит совершенно голый пацан моих лет. Женщина в засаленном халате мажет того пацана зелёнкой. Зеленкой нас было не удивить, всех мазали, где синяк, где царапина, где еще что. Но нас мазали точечно, локально, так сказать. А тут помазание было тотальное. И пока взрослые разговаривали о своих делах, я потрясенно смотрел на того зелёного пацана. Весь зелёный, а пятки розовые.
И вот, наконец-то, нам освободили квартиру. Мама погрузила на санки весь наш скарб, водрузила сверху наш с сестрой детский ночной горшок с ручкой, и мы стали «переезжать». Нет, не "переезжать", а слово тогда было такое – "перекочёвывать". Вот мы и перекочёвывали. Я шел сзади за санками и переживал, зачем это она ночной горшок сверху положила, неприлично же горшок, а так как без горшка жить никак нельзя, пусть она бы его в мешок засунула. Но мама моим переживаниям не внимала и молча тащила санки по укатанной дороге.

Дом был замечательный. Замечательный он был в первую очередь тем, что там в каждой квартире жили дети.
В этом же доме жили Богачёвы, Сашка и Верка. Сашка, чуть меня помладше, крепенький такой парнишка, и Верка, тоненькая до прозрачности белокурая девчонка. Недавно ее мама, тетя Дуся Богачева, показывала мне Веркины фотографии. Изумительной красоты женщина, работает ныне стоматологом, то ли в Комсомольске – на – Амуре, то ли в Бикине. Назвать ее «Веркой» и язык бы сейчас не повернулся, но в памяти своей мы все равно остаемся меж собой Сашками, Ленками и Верками.
С другой стороны дома жили Вологдины, Вовка и Танька. Вовка сейчас в Кокуе магазинов везде наставил, а Танька не знаю где. Она была нас всех старше и уже умела читать. Долгими зимними вечерами мы собирались вокруг нее и она нам читала вслух сказки. «Волшебник Изумрудного города» я и сейчас вспоминаю только в ее исполнении. Длинная дорога из желтого кирпича, Железный Дровосек, Страшила, настольная лампа и замирание сердечка: «А что дальше, что дальше?».
В соседнем доме жили Пляскины, шумная и многочисленная семья. По именам я их уже не помню, дружба с ними как-то не сложилась, несмотря даже на то, что у них прямо перед крыльцом была здоровенная песочница, место встречи всех окрестных карапузов. Из этого семейства больше запомнились не мои сверстники, а их крикливая бабушка, гроза всех окрестных женщин. Если слышны на всю улицу вопли и изощренные маты, значит, Плясчиху кто-то либо обидел, либо просто кто-то косо посмотрел. Где Пляскины сейчас, не знаю.
Еще там жил Гошка Корнилов, на год меня младше, крепкий флегматичный парень. Недавно совершенно случайно нашел его в Интернете в числе депутатов областного совета Амурской области. Ныне он председатель Сбербанка города Благовещенска.
На другой стороне улицы стояло двухэтажное деревянное заводское общежитие, а чуть дальше барак, называемый почему-то «Шубный». Почему Шубный, не знаю. Так и говорили: «возле Шубного», «за Шубным». В Кокуе много мест с замечательными названиями. «Люкс», «Мэскэес», «Кагиз», «Судоверх». Насчет Судоверха, я думаю, это искаженное «судоверфь», а вот истоки остальных названий покрыты мраком.
Летом на улице Клубной постоянно происходили какие-нибудь выдающиеся события. То привезут огромную кучу песка и к восторгу детворы высыпят прямо перед нашим домом, то начнут расселять заводскую общагу и она будет все лето стоять совершенно пустая. Представляете, какое это удовольствие – бегать по пустынным гулким комнатам с «пестиком» и деревянной шпагой, сделанной из дранки!
А однажды на нашей улице появился необыкновенный автомобиль. Фургон «УАЗ». Сейчас Уазкой никого не удивишь и как любой народный автомобиль, он приобрел свое название. Чаще всего его называют «буханкой», то ли потому, что напоминает булку хлеба, то ли от слова «бухать». А тогда мы, мальчишки, впервые увидели автомашину без привычного капота. И вот бежали всей толпой сзади и кричали: «Машина без носа, машина без носа». А на следующий день приехало еще более чудное создание – трактор «Беларусь», у которого вместо носа – кузов.
У самой горы проходила улица Луговая. Может, раньше на том месте и были луга, но в то время там стояли три длиннющих барака. В бараках жила мамина подруга и дальняя родня тетя Аня, и мы часто у нее бывали. Посреди барака проходил длинный темный коридор с многочисленными дверьми и висящими по стенами цинковыми ванночками. За каждой дверью – семья. Короче, "система коридорная, на тридцать восемь комнаты всего одна уборная". Уборная, действительно, была одна, и не на "тридцать восемь комнаты", а на два барака. Чуть выше к горе стояло зловонное сооружение зеленого цвета на десять посадочных мест. Жить в бараках было холодно и неудобно, а чтобы жильцам было веселей, бараки к каждому празднику красили то в белый, то в розовый цвет.

На том месте, где сейчас стоит магазин «Стекляшка» было болото. Вот на фотографии это болото в правом нижнем углу видно. Туда можно было сходить побродиться в теплой воде, наловить водорослей. «Лягушачье одеяло», как мы тогда их называли. Правда, у меня всегда это название вызывало недоумение - ну зачем лягушке в воде одеяло? Потом болото засыпали шлаком, поставили навесы и устроили на том месте базар. До того базар был прямо перед остановкой поезда в Судоверхе, напротив заводской проходной. Вышел из завода, прямо тут же семечками отоварился или серой и счастлив. Потом на том месте построили двухэтажный дом, а базар перенесли.
На базаре торговал Миша-китаец. С загорелым плоским лицом, всегда в синей сатиновой кацавейке, он торговал овощами. Рано весной, когда у народа еще лук в огородах не вылез, дядя Миша уже продавал свежие огурчики. Как и почему они у него росли в два раза быстрей, чем у остального народа, совершенно непонятно. Слово, наверное, такое знал, "петушиное". На китайском, потому как по-русски дядя Миша, прожив всю жизнь среди русских, говорил плохо. Хорошо у него получалась всего одна фраза: "Десять копеек пучок". Жил Миша-китаец в Вавилоне, но каждое утро как штык был на своем законном месте за прилавком с очередной порцией зелени. У нас тоже был свой огород, но, как говаривала мама, «копашь, копашь, поливашь, поливашь, а ни чо не вырастат».
Еще на базаре продавали серу. Это вываренная в воде и скатанная валиком лиственничная смола. Ее нужно было жевать. Мне сера не нравилась, но были любители, что жевали ее целыми днями. Да не просто жевали, а "художественно", с приемчиками, со щелчками и выдуванием пузырей.
Кроме навесов с прилавками на базаре была еще керосиновая лавка, вещь совершенно необходимая в тогдашнем быту, так как летом варили все на керосинках и керогазах. В керосинке топливо подавалось по толстому фитилю, а керогаз надо было накачивать насосом. Изобретение-то оно хорошее, но советская торговля как всегда подстраивала людям каку. Керосиновая лавка работала один день в неделю с двенадцати часов до пяти и работающему человеку купить тот керосин не было никакой возможности.
Родители наши были весь день на работе и обеспечение керосином легло на наши детские плечи, благо тащить было недалеко. Недалеко-то недалеко, но отец склепал из жести канистру объемом в двадцать литров по своей руке, совершенно упустив из виду, что для пятилетнего пацана уволочь двадцать литров было совсем непросто. И вот каждую неделю по четвергам, отстояв огромную очередь, (куда же при развитом социализме без очередей), мы с Ленкой короткими перебежками шагов по пять, тащили эту неподъемную канистру с базара.
Возле дома был небольшой огородик, а за огородом, вы не поверите, текла речка. Чистая и прозрачная. Это вот та самая грязная канава, через которую в поселке переброшены мосты, но по которой ныне ничего не течет, была речкой. В речке водились маленькие рыбки, лягушачьи головастики, по берегу местами росли тальники и осот. Выстроганный из полена кораблик можно было спускать по течению почти до самой Шилки у первого моста, изредка подправляя, когда он утыкался носом в берег. Через речку был переброшен небольшой деревянный мостик. Не там, где сейчас железный мостик стоит, а чуть ниже. Мост был шаткий, без перил, на нем было так забавно раскачиваться, встав посередине. Но это нам, ребятишкам, забавно было. А подвыпившим мужикам, штурмовавшим тот мост без перил, было совсем не забавно.
Если перейти по мостику на ту сторону речки, слева открывался вид на мрачный приплюснутый каземат под названием «поселковая баня». Баня была шлаколитая, угрюмого черного цвета, с крошечными оконцами под самым потолком. Смотрел недавно фильм документальный про Освенцим и газовые камеры, так вот что-то очень похожее было по внешнему виду. В "помывочной" два крана с холодной и горячей водой, отлитые из черного ноздреватого бетона скамейки с чугунными ножками, склизкий от мыла и какой-то гадости пол, по которому непрестанно струится вода. Но даже в это "чистилище" попасть было невозможно, не отсидев часа два в очереди. Билет стоил пятнадцать копеек и на нём карандашом был написан номер очереди. Как только из раздевалки выходил помывшийся человек, банщик выкликал следующий номер. Очередной немытый заходил, раздевался в освободившейся кабинке и подходил к банщику. Банщик выдавал шайку, закрывал на ключ кабинку и давал человеку жестяной номерок. Представляете? Голому человеку номерок! Ну и куда, как вы думаете, голый человек должен быть засунуть этот номерок, дабы бы не потерять, если в одной руке он держит шайку, в другой – мыло с мочалкой. Недавно один из записных телевизионных юмористов обыграл эту ситуацию. Я как увидел это, сразу подумал - наш человек. Из развитого социализма.
Если после того мостика повернуть направо, там стоял и сейчас стоит Клуб завода. На первом этаже была заводская столовая, где работала мама. Работала она "помповаром". Не знаю точно, как склоняется это слово, да и не важно это. Просто это означало, что мать уходила на работу в четыре часа утра загружать котлы к завтраку и работала до позднего вечера, пока в столовой после ужина не помоют посуду.
Весь божий день мы с сестрой были предоставлены сами себе, а часов в двенадцать ходили к маме в столовую пообедать. В памяти народной еще были живы воспоминания о том, как за сорванный колосок давали десятку, поэтому плеснуть на халяву чашку супа ребенку никому в голову не приходило. Мы с Ленкой честно выстаивали очередь в кассу, где кассирша что-то чиркала нам на клочке бумажной ленты, потом шли на раздачу за своим супом. Единственное наше отличие от простых посетителей было в том, что платила за нас мама, выскочив на минутку от своих котлов. Правда, иногда удавалось зайти в столовую с черного хода, где мамины подруги совали нам втихаря по пирожку, но это было нечасто. Обычно же черный ход был закрыт на ключ.
В обеденном зале почему-то всегда было жарко и пахло неистребимым общепитовским запахом переваренной капусты. Серые, всегда жирные алюминиевые ложки и свисающие с потолка липкие ленты с мухами. Это средство тогда было такое борьбы с мухами. Длинная метровая бумажная лента, покрытая клеем. Муха сядет на нее, приклеивается, взлететь не может и жужжит часами, пока не помрет от голода. А еще в зале висела огромная картина с медведями "Утро в сосновом лесу". Бедный Шишкин перевернулся бы в гробу, увидев это произведение искусства.
Когда мы с женой в середине восьмидесятых получили свою первую квартиру в новосибирской новостройке от Института Ядерной Физики, нам сразу же захотелось все перекрасить на свой вкус, так как в унылых салатного цвета стенах, оставшихся после строителей, жить было невозможно. И вот я решил разукрасить лоджию всякими сюжетами из сказок. А красок в магазине не было. В магазинах тогда вообще ничего не было. Несколько месяцев я нарезал круги на велосипеде по новосибирским хозмагам и, наконец, нашел ведерную банку коричневой краски для пола, голубенькую для окон и ядовито-зеленую краску для заборов. Я смешивал в маленькой баночке эти краски в разных пропорциях, долго смешивал, экспериментировал, добиваясь разных цветов, и все-таки разукрасил лоджию разными мишками и лисками. Рисовал где пальцем, где толстенной малярной кистью, где обломком зубной щетки, так как кистей нормальных в магазине тоже не было. Так вот, вспоминая то столовское "Утро в сосновом лесу", я думаю, что художник тех медведей рисовал тоже половой краской и малярной кистью для заборов. Позже, правда, заменили тот медвежий ужас "Девятым валом" и утопающие люди на картине здорово поднимали аппетит обедающих.
Потом, когда построили новый дом на площади, столовую перенесли туда, в полуподвал, но там мама уже не работала.
А на втором этаже над столовой был единственный в Кокуе кинозал. «Авангард» построили позже. Ой, нет, был еще летний кинотеатр на стадионе, но работал он, конечно, только летом. Летний кинотеатр представлял собой дощатый сарай с врытыми в землю скамейками. В этом кинотеатре разрешалось курить и лузгать семечки, поэтому земляной пол был покрыт толстым слоем отходов жизнедеятельности. А еще там водились здоровенные комары и во время сеанса отовсюду были слышны громкие шлепки и тихие маты сквозь зубы.
Кинотеатр клуба завода был построен капитально. На потолке лепнина в стиле «сталинский ампир», тяжелые пыльные шторы, во всем видна основательность и прочность. Там я впервые в своей жизни увидел кино. Как тот фильм назывался, не знаю, но что-то про горы. Там была еще такая песня рефреном: «..Я бродил среди скал, огонек я искал, огонек, ты свети мне в пути..». Сами горы в фильме меня не впечатлили, а что такого, вон, за окном такая же скала над Судоверхом нависает, а запомнилось, что кто-то там в горах замерзает. Потом иногда, поглядывая на ту скалу, думал, а вдруг там сейчас кто-то мерзнет и надо спасать.
Билет на детский сеанс, что в одиннадцать часов, стоил пять копеек. На сеанс в три часа дня – пятнадцать копеек, вечерние же сеансы стоили по-взрослому и цен не помню, так как пятилетний человек на вечерние сеансы не ходит. Поход в кино обычно начинался часа за полтора до начала. Мы приходили с сестрой к кассе и долго слонялись вокруг, дожидаясь открытия. Нет, прийти-то можно было бы и попозже, к открытию, но попозже было бы неинтересно. Тогда пропадал сам смак предвкушения удовольствия. Мы там с ней были не одни такие, с нами слонялось еще с десяток таких же шалопаев. Там можно было узнать последние новости, услышать сюжет вчерашнего фильма, на который нас мама вчера не пустила, обменяться кусками карбида и увеличительными стеклами. В общем, светская тусовка. Потом открывалась касса и тут важно было угадать и купить билет не на боковые места, так как после крайнего бокового места в первом ряду шея потом весь день была повернута немного набок.
Несмотря на лепнину на потолке и красивые занавеси в зале, ощущения светлого и радостного праздника что-то не помнится. В памяти остался запах слежавшейся вековой пыли. Наверное, виной тому никогда не открывавшиеся окна, закрытые толстыми светонепроницаемыми шторами и плохая вентиляция. Одна за другой гасли лампы, сначала боковые бра, потом потолочные люстры. Плавно гаснущий свет, управляемый реостатом, я впервые увидел в «Авангарде», когда его построили в 64 году. А в клубе завода светильники просто кто-то гасил рубильником один за другим. Раздвигался занавес перед экраном и начинается обязательный в те времена «журнал». Через пятнадцать минут «журнал» кончался, входили опоздавшие и начиналось само кино.
В этом же здании клуба завода, со стороны Заводской улицы, был промтоварный магазин «Люкс». Почему «Люкс»? Да бог его знает. «Люкс» и всё, хотя на вывеске написано «Промтовары». Промтовары там какие-то действительно были, на полках лежал «матерьял», висели платья и штаны. Но не они интересовали нас тогда. А занимало наше внимание небольшая стеклянная витринка со всякой всячиной, как заходишь, сразу направо. Портсигары из серого целлулоида стоимостью 5 копеек, зубные щетки с ручкой из плексигласа, переводные картинки, которые надо было намазать мылом, прежде чем приклеить. Ленка однажды вместо похода в кино купила себе такой портсигар. Спрашиваю: «Зачем он тебе?». Отвечает: «Что-нибудь складывать». «Что складывать?». «А что-нибудь». Вот и пойми их, девчонок.
Зато зубные плексигласовые щетки обладали несомненной ценностью. Конечно же, не для чистки зубов. Плексигласовые ручки этих щеток долго и ярко горели, жирно чадя, и нужны они нам были для подземных исследований. Под Заводской улицей шли канализационные трубы в штольнях, и если найти открытый канализационный колодец, то можно было пролезть по ним на другую сторону улицы или во двор ремесленного училища. Нет, перейти на другую сторону улицы можно и по земле, но какой же дурак пойдет по земле, когда можно под землей. Двор ремесленного училища тоже был всегда открыт, заходи, кто хочет, но это же так любой зайдет, а ты под землей попробуй. Вот и лезли мы, сопя и обдирая коленки, по уши в грязи за приключениями. Кто-то из больших пацанов говорил, что один из подземных ходов выходит прямо в заводе, и что, якобы, он туда лазил и даже ходил по заводу. Врал, поди.
Еще на той витринке лежал совершенно замечательный и таинственный предмет стоимостью в шестнадцать рублей. Только из-за одной своей цены этот предмет сразу же попадал в разряд абстрактных и недосягаемых как Луна, вещей. И как Луна манит своей недосягаемостью, так и этот предмет манил меня своей таинственностью и непонятностью. Каждый раз, приходя в магазин, я останавливался перед витриной и любовался на эту непонятку и более того, несколько раз даже специально приходил на нее посмотреть. Сейчас, по прошествии почти пятидесяти лет я помню эту вещь в мельчайших деталях, до того она меня поразила. Я тогда начал понимать, что мир не такой простой и понятный, как кажется, и что есть много вещей, лежащих выше моего понимания. Сестра была младше меня, смотрела на меня как на авторитет и спрашивала, что это такое там лежит. И я, надув щеки, сообщил ей, что это какая-то усовершенствованная модель свистульки.
Когда я лет в четырнадцать занялся авиамоделизмом и начитался всяких специальных журналов, то понял, что тот таинственный предмет был компрессионным микродвигателем для авиамоделей марки МК12В и как он попал на прилавок рядом с переводными картинками и портсигарами совершенно непонятно.
Помню, как научился читать. Научился сам собой, никто меня не учил, родители в заботах о хлебе насущном, мы с сестрой на улице, кому учить? Как я уже говорил, в соседях была Танька Вологдина, которая умела читать, была у нее азбука, показывала она нам буквы. Буквы я знал не все, но добрую половину запомнил. И вот, идя однажды по Заводской улице, поднимаю голову, вижу – вывеска на магазине и буквы знакомые. Смотрю на буквы … и вдруг.. само собой складывается слово "Хлеб". Восторг!! Катарсис! Инсайд! Озарение. Снова и снова складываю слово. Все сходится. "Хлеб". Радостный, бегу дальше, там, на магазине, что в розовой двухэтажке на Заводской, слово "Продтовары". С этим словом ничего не получается, буквы-то не все еще знал. Да и начальники, что заказывают вывески, были явно не поэты. Нет, что бы просто написать "Еда", там бы я сразу догадался. Так нет, пишут корявое слово "Продтовары", убивающее всякий аппетит.
Рядом с "Люксом" там есть маленький скверик в несколько кустиков. В этом скверике лицом к Заводской улице стоял памятник Сталину. Сталин как Сталин, с усами и сапогами, таких Сталиных в каждой деревне было на каждой площади понаставлено по одной штуке в обязательном порядке. Это что бы народ не забывал, кто в доме хозяин. Крашеный серебряной краской с грязными разводами, таращился он снисходительно на Заводскую улицу. Стоял себе и стоял, никого не трогал, поэтому и пережил двадцатый съезд партии, про него все и забыли, что стоит. И вот однажды пронесся слух: ночью Сталина сломали. Мы, мальчишки, побежали сразу же смотреть. Действительно, сломали и уже куда-то увезли. Причем, ночью. Остался поломанный заборчик, следы колес на осенней земле, сапоги на серебряном постаменте и торчащие из них ржавые арматурины. Те полтора сапога еще потом долго стояли, месяца три, и все ходили на них любоваться, пока кто-то из начальства не догадался их убрать. А постамент до сих пор там стоит, весь облупившийся. Недавно, будучи в Кокуе, специально смотрел. На том постаменте сейчас положили автомобильную покрышку и клумбу развели.

Года через два с другой стороны Ленина поставили, только покрасили его не серебряной, а бронзовой краской. И загородили Ленина небольшим таким аккуратным штакетником. Только совсем забыли, что в клубе завода танцы регулярно бывают, а на танцах, естественно, молодежь. А потом все удивлялись, почему это после каждого первопрестольного праздника количество штакетника убывает.
А вот Заводская улица с тех пор мало изменилась. Разве что тополя подросли, да асфальт местами пробивается. Раньше асфальта не было. Я бывал во многих городах, и не из «квасного патриотизма», а вполне объективно могу сказать, что наша Заводская улица – одна из красивейших. И не на эмоциональном уровне, а просто из архитектурных соображений. Ширина улицы, длина, высота зданий, деревьев, все находится в гармонии. Жаль только, что сейчас там все запущено. В последнее время «отцы» разных городов взяли в моду обрезать тополя по самое «ой, боже мой», превращая бедные растения в некое подобие уродливой метлы. Будет очень жаль, если и в Кокуе поведутся на эту моду.

Помню, как купили мне велосипед. Красный, трехколесный, блестящий и совершенно новенький. На велосипеде был настоящий звонок, точно такой же, как на отцовском взрослом велосипеде, была кожаная сумочка для инструмента, в ней два настоящих гаечных ключа. Один для подтягивания спиц, другой, побольше, для гаек. Купили его зимой, ездить зимой на нем некуда, и я, раскатывая всю зиму по двум нашим комнатам, достал всех своим звонком. Купили его нам на двоих с сестренкой, но она большого интереса к велосипеду не проявила, ну, девчонка, что возьмешь. Зато я влюбился в свое блестящее чудо окончательно, бесповоротно и на всю жизнь. Как только сошел снег, я уже нарезал круги вокруг дома. Особенно интересно было проезжать по глубоким лужам, а уж «забуксовать» там было совсем в кайф. Я, сидя на велосипеде, изображал звуки завывающего двигателя, а Ленка тянула меня с велосипедом за веревку из лужи.
Летом я выступил в дальние велосипедные походы. Дальние – это большой круг мимо стадиона, затем вдоль по Заводской, потом после площади налево и домой, на Клубную. А на трехколесном велосипеде это было совсем не просто.
Помню жаркий июньский полдень. Цветущие тополя, осеняющие Заводскую, дорога покрыта снежным слоем пуха. Пуха много, он прилипает к лицу, надоедливо и тонко щекочет кожу и приходится его постоянно смахивать. Еду на велосипеде, стараясь держаться в тени тополей. Бездонное, изумительной синевы небо, красивая улица. И ощущение бескрайности мира, радости жизни и просто беспричинный ребячий восторг от всего этого.
Через много-много лет я вновь испытал это чувство. Ехал я в тот раз уже не на трехколесном велосипеде, а на легком звонком «Старт-Шоссе», ехал по тополиной аллее, чем-то напоминавшей нашу Заводскую, ехал в другом городе, и было мне тогда глубоко за тридцать. Прижмурил глаза и показалось, что мне снова пять лет, и что снова я в «дальнем походе» на Заводской, и что приеду домой и снова мама будет ругаться, что без разрешения уехал.
Однажды я на своем трехколесном чуде даже гонку выиграл. Был на стадионе какой-то праздник, День Молодежи, кажется. И устроили там велосипедные соревнования для детей. Дети с четырех до пяти отдельно, с шести до семи отдельно. И я выиграл. Приехал первым. Запомнилось из того соревнования всеобщая бестолковщина, ну дети же. Кто-то упал, кто-то в кого-то врезался, кто-то заплакал. Я, свернув с общей дорожки на травку, усердно сопя, крутил упорно педали. По травке труднее, зато никто не упадет перед носом. Дали мне шоколадную медаль на веревочке. Здоровенная такая круглая шоколадина в золотистой обертке. Как ни хотелось мне ее тотчас сожрать, по примеру соседей, но принес я ее с гордостью домой и отдал маме. Мол, подели. Мать, обрадовавшись, что не сам слопал, деликатно отщипнула себе кусочек, отцу оставила, остальное поделила нам с сестрой.