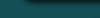Глава 4
Частенько к нам приезжали родственники. Вообще-то родственников было много и все с отцовской стороны. Фамилии Гордеевы, Зимины, Шайдуровы известны в Кокуе и Сретенске и каждый может назвать с десяток знакомых с такими фамилиями. Ничего удивительного. Старинные казачьи рода с Петровских времен. Я однажды в интернете нашел ведомость на выдачу зарплаты Нерчинским казакам от Государя Всея Руси Петра Алексеевича. Вот там наши фамилии и написаны были. А мы, значит, потомки тех казаков Гордеевых и Шайдуровых. Я когда приезжаю в Кокуй и мне надо позвонить кому-нибудь, сначала, естественно, представляюсь. И сразу же начинаются расспросы, какой это Гордеев, да чей сын, да откуда. В последнее время я приноровился рекомендоваться как сын Петра Гордеева из Кунги. Тогда сразу всем все становится ясно.
А вот с маминой стороны родственников не было и никто в гости не приезжал. Мамин отец жил в Улан-Удэ и приехал только один раз посмотреть на народившихся внуков, то есть на нас с Ленкой. Я его почти не помню. Появился он на нашей рабоче-крестьянской улице Клубной в шляпе, при галстуке и с тростью, погулял с нами по улицам, посмотрел Кокуй и уехал, оставив местным кумушкам тему для пересудов. В памяти остался только его высокий рост и худощавая фигура в белом пиджаке. А вместо лица память услужливо подставляет фотографию из старого альбома.
Мама иногда на меня так задумчиво смотрит и говорит: « Ну, вылитый дед Алексей. Походка, манеры, все от деда». Ни подтвердить, ни опровергнуть ее слова не могу, так как деда не помню, и откуда взялись у меня походка и манеры не знаю.
Родни с отцовской стороны было много, но родственники, не совпадающие с нами по возрасту, нас не интересовали. Дружили мы с ровней, двоюродными братьями и сестрами.
Весной пятьдесят четвертого нас тогда трое родилось. В марте родился Серега в Удыче, в апреле родилась Шурочка в Чикичее и последним, в мае, родился я. Ну, родились и родились, жили, орали, какали в пеленки и не знали ничего друг о друге.
Когда мне было года три, родители стали поговаривать о каком-то Сережке в Удыче, который упал и сильно ушибся. Меня стали отгонять от окна, когда я пялился на улицу, мол, упадешь и ушибешься, как Сережка. Родился он нормальным, и как все дети после года пошел. Деревенская изба, обычное окошко, натянутая поперек ниточка и занавески на ней. Залез он на окно, ухватился за эту ниточку, она и порвалась. Сережка упал. Ушибся. Ну упал и упал, кто из маленьких не падал, проорался ребенок и успокоился. Только ходить он после этого перестал. Всё больше лежал да ползал потихоньку. Думали, пройдет. Два года ребенку, а он все не ходит. Забеспокоились. А где в заброшенной деревне ни три двора врачей найдешь? Затянули время.
Года три мне было, когда я впервые увидел Серегу. Привезли его к врачам в Сретенск. Остановились у нас.
Наш маленький, вросший в землю домик на улице Луначарской, вытертый до ям многими людскими поколениями дощатый пол со щелями. Доски вытерлись, а сучки, как более твердые, остались. На этих щелястых бугристых досках лежат лоскутные половики. А по половикам ползает Серега. Мама зудит над ухом: «Подойди, познакомься, поиграй». Да я бы и сам потом подошел, но когда насильно что-то заставляют, у меня на это сразу внутренний протест. Поэтому упираюсь, стою в сторонке и смотрю. Такой большой мальчишка, мой ровесник, а ходить не умеет, ползает как маленький. И возят его в самодельной корявой тележке с деревянными колесами. Боязно как-то.
Возили его, возили по Сретенским врачам, так ничего и не поняли. Лет пять ему было, повезли его в Читу. Там и выяснилось, что у него запущенный перелом позвоночника. Что-то там неправильно срослось после того падения. Положили его в Чите в гипс и на вытяжку на несколько лет. Там, в больнице и в школу пошел. Это только так говорится что " в школу пошел". Пойти он в нее, лежачий, никак не мог, а приходила там к ним учительница в палату, и учила. Там и мир узнавал, лёжа на вытяжке в гипсе. Там и характер формировался.
Знакомый до последней трещинки потолок в палате, четверо таких же бедолаг, один с горбом, другой с разбитыми коленками. И еще боль. Боль в спине, знакомая, привычная, родная. И боль от пролежней. Лежа на вытяжке да еще в гипсе шевелиться нельзя. Невыносимый зуд под гипсом, когда руками бы его разодрал, что бы почесаться. Но нельзя. Невыносимая скука, три года в одной и той же палате, с одними и теми же сокамерниками. После того, как сняли гипс – атрофия мышц и снова мучительные процедуры. И снова больница, только в другой палате. В восемь лет впервые учиться ходить. Пусть на костылях, но зато самостоятельно передвигаться. Нам, здоровым, этого не понять. А он это все прошел ребенком. И боль, и надежду на выздоровление, и тоску по материнской ласке, и невыносимую скуку бесконечных больничных буден. Но все когда-то кончается, выписали, наконец, и Серегу.
Я сейчас пытаюсь вспомнить, когда же в первый раз после больницы увидел его. Никак не вспоминается. Как-то оно незаметно произошло, само собой. Лет десять нам с ним было. Приехал я в гости к дяде Мише в Сретенск, а там Серега. С костылями. Парень как парень. Видно, что многое в новинку ему, ну еще бы, все детство в больнице провел. Поболтали о том, о сём. Он все про больницу рассказывал, больше же ему не о чем рассказывать. Потом его в Кокуй привезли погостить, потом снова я к ним. На лето я приехал к ним уже на месяц, потом он к нам. Друзей-то пока у Сереги не было, вот меня и старались с ним поближе свести.
Нормальный жизнерадостный парень. Если бы не костыли, то он бы ничем и не отличался от моих дружбанов на улице. Я, потом, уже взрослым, общался с инвалидами, которые с детства. В институте учился с парнем с изуродованными полиомиелитом ногами, девчонка знакомая была почти глухая. Так вот есть у них что-то общее, какой-то надрыв внутренний чувствуется. У тех, кто инвалидность позже получил, этого надрыва нет. А вот у тех, кто с детства… А проведи-ка в больнице года три-четыре, да еще как раз в то время когда характер формируется. Вот оно самое. Только у Сереги этого не было, жизненная радость так и пёрла из него.
Написал что "..у Сереги этого не было" и подумал, что соврал, однако. Был он, этот надлом, только глубоко-глубоко и не каждому видно было. А так, если поверхностно смотреть, то инвалидности своей и не стеснялся вроде. С удовольствием показывал насколько у него одна нога короче другой, мерялся с нами руками силой. А руки у него были мощные, накачанные. И мозоли подмышками от костылей.
Детская среда жестокая. И дразнили его и били. Но это поначалу только. Дразнить потом перестали, так как привыкли, а пробовать бить потом не каждый отваживался. Он и костылями мог отходить любого, пусть только попробуют залупнуться. Даже в лапту играть его брали без всяких скидок, так как на костылях он бегал едва ли не быстрее, чем мы на ногах. Вот только бить по мячу битой у него не получалось, костыли мешали. И плавал Серега тоже здорово, куда мне было со своими слабенькими ручками против его накачанных рук. В Сретенске мы купались ниже пристани, а кто там бывал, тот знает, что там за течение. Так вот он умудрялся там выгребать против течения, оставаясь на одном месте. А бывало, и бились вместе, плечом к плечу. Помню, однажды… Улица Бутина, если в сторону гарнизона идти, кончается в какой-то канаве с мусором. Вот там и прицепились к нам трое, мол, чего на нашей территории делаете. Пришлось доказывать нашу состоятельность. Пока я разбирался с одним, Серега накостылял двоим. Кончилось это старым, как мир, обещанием еще поймать нас когда-нибудь в далеком будущем.
Потом, когда слабенькие мышцы ног немного накачались, Серега уже и без костылей обходился, с одной тросточкой. Мой отец выточил ему на заводе алюминиевую трость с эбонитовой ручкой, вот на нее он и опирался, помогая больной ноге.
Жила дяди Мишина семья более чем скромно. Когда дядя Миша поставил дом на улице Бутина, то дом лет десять потом стоял без фронтона, не было денег на доски, что бы зашить. Дядя Миша работал шофером в автороте, тетя Галя – уборщицей в магазине. А семья большая, четверо детей, всех обуть-одеть надо. Держали они корову, но молока не видели. Молоко сдавали, а сами пили обрат. Обрат – это жидкость, оставшаяся от сбивания молока. У них даже выключателей в доме не было. Электричество было, а выключателей не было. Свет выключали, выкручивая лампочки. Не было у них денег на провода и выключатели. Когда я уже окончил школу и пошел работать учеником электрика, то выпросил у бригадира обрезки проводов, спёр на складе пару выключателей и розетки, и только тогда приехал и сделал им человеческую проводку.
Вот так мы с ним и росли. Хорошо с Серегой было. Комфортно. Никто ни перед кем не выделывался, он спокойно принимал мое превосходство в уме и начитанности, я нормально, без жалости смотрел на его инвалидность. Славный он друг был. Надежный.
А потом наши дороги стали постепенно расходиться.
Помню, провожали меня в армию. Отец оповестил всю родню и устроил грандиозные проводины. Обычай был такой. Старинный. Края наши испокон казачьи и для парня тогда у нас считалось неприличным в армии не служить. Да и девки думали, если парень не служил, значит, порченный, если в армию не взяли.
Собралось пол - Чикичея, дяди Мишина семья, куча моих друганов и уже не помню кто. Дядья чего-то вспоминают за рюмочкой, их жены, обнявшись, поют "Шел казак на побывку домой", мои многочисленные двоюродные сестры в кустах с моими дружбанами знакомятся. В общем, все счастливы и все при деле. И тут Наташка, девчонка, с которой тогда дружил, из-за стола меня вызывает и шепчет: "Там в кладовке кто-то плачет". А это Серега ушел от всех и в темноте плачет. У меня здоровье, у меня красивая девчонка, меня в армию в ракетные войска берут, а у него ничего. Да тут еще Наташка сдуру его по голове стала гладить, жалко ей его. Он еще пуще того. Еле успокоили.
Потом я пошел Наташку домой провожать, а когда вернулся, Серега был уже пьян вдрызг.
Через два года, демобилизовавшись, я его уже не встретил, учился он тогда в электромеханическом техникуме в Улан-Удэ. А потом уехал учиться я, так и разошлись дороги. Писали мне родители, что квасит Серега крепко. Да и как тут удержаться. Был бы дом свой, семья, дети, цель бы тогда была. А так ни кола ни двора. Да и ремонтом он занимался, телевизоры, бытовая техника. А нас на Руси как-то не принято деньгами за работу платить, бутылкой оно способнее. И мастера уважил, и сам нахрюкался. А жена возникать начнет, так и отговорка есть, мол, так положено. Вот и споили Серегу.
Были у него иногда периоды просветления, по полгода не пил. В один из таких светлых дней встретились мы с ним. Поговорили тогда хорошо, красненького бутылочку выпили. Дядя Миша с нами тоже за компанию. И нормально было, и никто за следующей в Удычинский магазин не побежал. Позвал я его к себе. Я как раз тогда родителей к себе перевез и домишко им в пригороде Новосибирска купили. Мол, если что, у них пока поживешь, а там, может, и сам осмотришься, обустроишься.
Бросил Серега пить, купил себе новое пальто и ботинки, приехал. Пожил с месячишко у нас, походил по Академгородку, родителям моим телевизоры перечинил. У меня как раз тогда Ромка, младший, народился, а жена в институте последние госэкзамены сдавала. Оставляли ребенка с ним. Нормальный мужик, даже более хозяйственный, чем я. И кашки ребенку сварит, и сопли ему вытрет, и дома приберет. Правда, сам иногда не слишком опрятный бывал, но это от жизни мужской одинокой. Женщины нет, так вроде и следить за собой не обязательно.
Но жизнь в большом городе - это другая жизнь. В эту жизнь надо входить смолоду, пока гибкость не утрачена. Мои родители, например, так и не смогли адаптироваться. Решил Серега, что Новосибирск не для него, и что будет он в Сретенске дальше жить. Надавал я ему два чемодана радиодеталей, которых в Сретенске днем с огнем не сыщешь, уехал он.
Я потом еще в Сретенск приезжал, хотел с ним встретиться. Не нашел. У друганов-собутыльников он жил. Тетя Галя мне потом попеняла, мол, зачем я ему этих радиодеталей надавал. Он как приехал от меня, поначинил телевизоров, да и ударился в загул, аж на полгода. А потом и срок себе схлопотал. Козленка у кого-то они украли да съели на закуску. И сел на полтора года. И покатилось все под горку. И дом отцовский потом пропил и пенсию его по инвалидности кто-то другой за него получал, а Серега только расписывался. И рассказывали, что видели его, как он, бородатый и грязный, зубами булку хлеба рвал да водой из Шилки запивал. Отец мой, когда еще у него ноги ходили, был по делам в Сретенском собесе и увидел Серегу. Так тот убежал быстренько за угол и спрятался.
Был я этим летом в Сретенске. Прошелся по улице Бутина. Сфотографировал бывший дяди Мишин дом, Шайдуровский дом, дяди Ванин дом. Пока ракурсы выбирал, гляжу, идет какая-то бабулька. Спросил у неё, не помнит ли она Гордеевых, что жили в этом доме. Оказалось, всех помнит, всех знает и что зовут ее баба Груша. И рассказала она, что Серега уже год как помер. И что умер он весь избитый, и что хоронить его было некому, и что хоронила его бывшая соседка семьи Гордеевых на свои деньги. Рассказала где его могила. Пошел я на кладбище, нашел дяди Миши с тети Галей могилы, а там рядом и безымянная могила. Памятник железный ржавый без надписи, из тех, что выбрасывают за забор, когда каменный кому-нибудь ставят.
А у меня даже и фотографии его нет ни одной. Эх, Серега, Серега.
У отца была старшая сестра тетя Гутя. Жила она в Чикичее, носила по мужу фамилию Шайдурова и была отца намного старше. Пока отец семь лет служил в армии да после армии гулял, нарожала тетя Гутя пятерых детей, дети выросли и были с моим отцом почти одного с ним возраста. А у тех детей, соответственно, свои дети и когда мы с Ленкой родились, оказалась у нас куча родственников в Чикичее. Автобусов меж деревнями тогда не ходило и с Чикичейской родней мы почти не общались.
И вот однажды, возвращаясь из очередного велосипедного путешествия, увидел я возле нашей ограды телегу с привязанной лошадью. Под телегой лежала внушительного вида собака. С опаской обойдя лошадь с собакой, захожу домой и знакомлюсь с дядей Гришей, мужем отцовской сестры. Высокий, светловолосый. Несмотря на май месяц, уже загорелый. Весь такой ладный, подтянутый, сапоги, ремни, все по месту, все по размеру. Негромкий мягкий выговор и добрые-предобрые глаза с застенчивой улыбкой. Работал дядя Гриша чабаном, а весной у чабанов самая страда, овцы ягнятся. Но, видно, в этот раз что-то приключилось, прожил он у нас тогда неделю. Отец пошел выпрягать лошадь, поить ее.
Пишу слово "лошадь", а сам думаю, что в Забайкалье это слово редко услышишь от коренных жителей. Чаще "конь" говорят или еще уточняют:"кобыла". Отец, иногда под настроение вспоминая детство, поет песни старые, частушки: "….Накладу больши воза, кобыла выпучит глаза…", хотя, если исходить из размера стиха, складней было бы петь:"..Лошадь выпучит глаза".
Назавтра дядя Гриша катал нас на коне верхом вдоль по улице Клубной. Не понравилось мне это дело. Высоко, боязно, тряско, пахнет конским потом. Потом я еще долго отряхивался и чистился от конской рыжей шерсти. Отец, который с конями рядом вырос, говорил мне, что самое умное животное – это конь, и что конь гораздо умней собаки. Но вот не судьба мне по жизни с конями общаться, не пришлось. Может и умней. А в тот раз собачка по имени Серко мне поглянулась. Несмотря на грозный вид и предупреждения взрослых, Серко отнесся ко мне вполне лояльно и позволил даже гладить себя. Пастушьи собаки, они умные, дуру там держать не станут. А умные, значит не агрессивные. Это тех, кто на цепи сидят, тех опасаться надо.
Стояла, как я уже сказал, весна. Последняя моя вольная весна перед школой и взрослые договорились отправить меня с дядей Гришей на лето в деревню. Я тоже был не против.
На следующий день мама вырядила меня, несмотря на жару, в телогрейку, в резиновые сапоги и строго – настрого приказала слушаться всех подряд. У меня на языке вертелся вопрос: " А Серко тоже слушаться?", но на всякий случай промолчал, так как можно было схлопотать подзатыльник на это остроумие.
Ехали долго. Ездили тогда все через Мыгжу, так как дороги в Кунге еще не было. Я несколько раз засыпал и просыпался, конь то плёлся шагом, то бежал рысью под горку, а дорога и однообразные сопки все не кончались. За телегой у дяди Гриши противно и нудно дребезжало пустое ведро, жарило в упор солнце. Серко шнырял где-то вокруг, обследуя джумбуринные норы. Я потом, когда вырос, много раз ездил из Кокуя в Чикичей, ездил на велосипеде, а после шестнадцати лет на мотоцикле и чем больше ездил, тем короче казалась мне дорога. Но то первое свое путешествие мне казалось никогда не кончится. В конце концов, я заснул совсем и проснулся уже вечером во дворе Шайдуровского дома.
Дом этот резко отличался от всех домов, виденных мной раньше. В Сретенске у нас была старая развалюха, вросшая в землю, с крошечными оконцами, с заборами из березовых палок. Что бы войти в дом, надо было спуститься на несколько ступенек вниз. Все было старое и прогнившее. Легче было построить заново, чем отремонтировать, поэтому и отношение к дому было как к времянке. На следующем, на Кокуйском нашем доме лежала неистребимая печать казенщины. Забор из пиленных тонких штакетин, общественный туалет, сарай, построенный рабочими абы как. Не себе же строили, стоит криво да и ладно. Не падает же. Перекошенные двери, окна неоткрывающиеся. Даже печка была кривоватая. Казённое оно и есть казённое.
Шайдуровский же дом был строен для себя. Высокое крыльцо, подклеть, кладовки, сделанные не из досок, а из толстенных плах. Даже заборы во дворе были не привычные из штакетника, а врытые в землю столбы с пазами, в пазы вставлены или плахи, или вообще бревна, расколотые повдоль. Даже на земле от крыльца до бани лежали такие же бревна, расколотые вдоль, что бы в непогоду можно было дойти из бани посуху. А в доме посередине красовалась настоящая русская печь. Усталый и осоловелый, я уже мало что тогда воспринимал и наскоро поужинав, завалился спать.
Утром меня ждала на столе кружка парного молока, ломоть черного хлеба и целая толпа ребятни. Они, прослышав, что меня привезли, пришли рано утром и деликатно дожидались во дворе, когда я проснусь. Кроме моей законной двоюродной сестры Шурочки были еще мои сверстники, дети моих двоюродных братьев. Самих двоюродных братьев я тогда называл «дядями». Ну, действительно, как я их еще мог называть, коль они почти ровесники моего отца. А остальные до сих пор для меня Ваньки, Верки и Кольки. Так повелось. А вот Шурочка всегда была Шурочкой, даже для самых младших. Ей сейчас давно уже за пятьдесят, и внуки есть, а она все равно Шурочка для всех. Так повелось. Точно не знаю, но наверное, и внуки ее тоже Шурочкой зовут.
Знакомство началось с обычных нормальных животрепещущих вопросов, типа до скольки считать умеешь, умеешь ли свистеть да докуда камень докинешь. Девичий отряд быстро потерял ко мне интерес и куда-то испарился, а Колька с Ванькой заспорили, куда меня вести, то ли на лесопилку, смотреть, как доски пилят, то ли в лес березовый сок пить. И между тем ненавязчиво так был задан вопрос, какого цвета у меня трусы. Это сейчас смешно вспоминать. А тогда это было вовсе даже не смешно для нас. Думаю, что тут нужно небольшое пояснение.
В детсадовском возрасте мальчики и девочки носят колготки и никого это не смущает. Но потом мальчики, подрастая, одни раньше, другие позже, начинают бунтовать и отказываются носить «девчачьи» колготки. Естественный процесс, и у нас такое же было. Только колготок тогда не было, а были панталоны с резинками. Девочки, вырастая, продолжали носить их под платьями, а мальчикам с некоторого возраста шились черные полотняные трусы. Это был как бы знак принадлежности к мужскому сообществу. Вот и я к семи годам тоже взбунтовался и маме пришлось сшить мне трусы. Только черного материала не было и мама сшила белые.
Когда же я сообщил Ваньке что трусы у меня белого цвета, лесопилка была сразу же забыта и меня срочно повели купаться на Матаканку, так ему не терпелось посмотреть на белые трусы. Не видел он никогда белых. Купаться было еще рано и холодно, но мы набродились всласть, ловя мальков. На дно клали свою рубаху, надо было дождаться когда рыбка заплывет на нее и дернуть рубаху резко вверх.
На следующий день Колька повел меня в лес за березовым соком. Перешли Матаканку, поднялись на гору и вот он, лес. На березе делался V – образный надрез, в него вставлялась соломинка. По соломинке сок стекал в банку. Несколько трехлитровых банок было расставлено под березами несколько дней назад и полные банки надо было забрать, пустые подставить.
Березового сока я раньше никогда не пробовал и Колька нарассказывал мне какой он сладкий, что оторваться невозможно. Когда я взял в руки банку, он даже предупредил, что бы я много не отпивал. Наслушавшись Кольку, я ожидал что сок – это какая-то божеская амброзия, но, против ожидания, сок мне не понравился. Водичка сладенькая и всё. Что в нём такого небывалого, непонятно.
Потом ходили на лесопилку, потом еще куда-то. Потом дня через три-четыре, когда ходить стало некуда, мне стало скучно и потянуло домой. Но так как везти меня было некому, остался. Потом постепенно втянулся, и когда через месяц настала пора уезжать, то уезжать уже и не хотелось.
Дядя Гриша приезжал с баранника редко, только в баньке попариться, да денек отдохнуть. Потом снова на свой баранник. Старшие дети жили уже своими домами, приходили редко и основную работу по дому тянула тётя Гутя. Мы с Шурочкой и Колькой еще спим, а на кухне уже гремят ухваты. Выгнать в стадо корову, накормить скотину, потом идти на колхозную работу. Работу тяжелую, не нормированную по часам, с нищенскими колхозными трудоднями. И согнутая спина, натруженные, с венами, руки.
Все-таки рабочие тогда жили несколько лучше, чем крестьяне. Хоть в те Хрущевские времена в Кокуе было и голодновато, две булки хлеба в одни руки и прочие прелести социализма, но и мебель покупали, и отцовский двубортный пиджак с ватными плечами помню, и мамино красивое серое шелковое платье и радиолу с пластинками. В Чикичее же шелковых платьев у тети Гути не было, пластинок тем более. Это потом уже, в семидесятых, деревня немного приподнялась. А тогда ничего там не было. Зато хлеб был необыкновенной вкусноты. По сравнению с кукурузными буханками из опилок тети Гутины круглые караваи из русской печки были лакомством. И потом, сколько помню, если чикичейские ехали в Кокуй, обязательно привозили деревенский хлеб и экономная мама нам с Ленкой выдавала по ломтю каждый день.